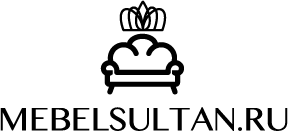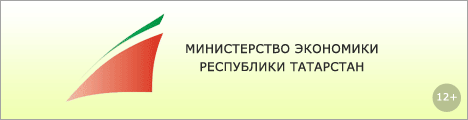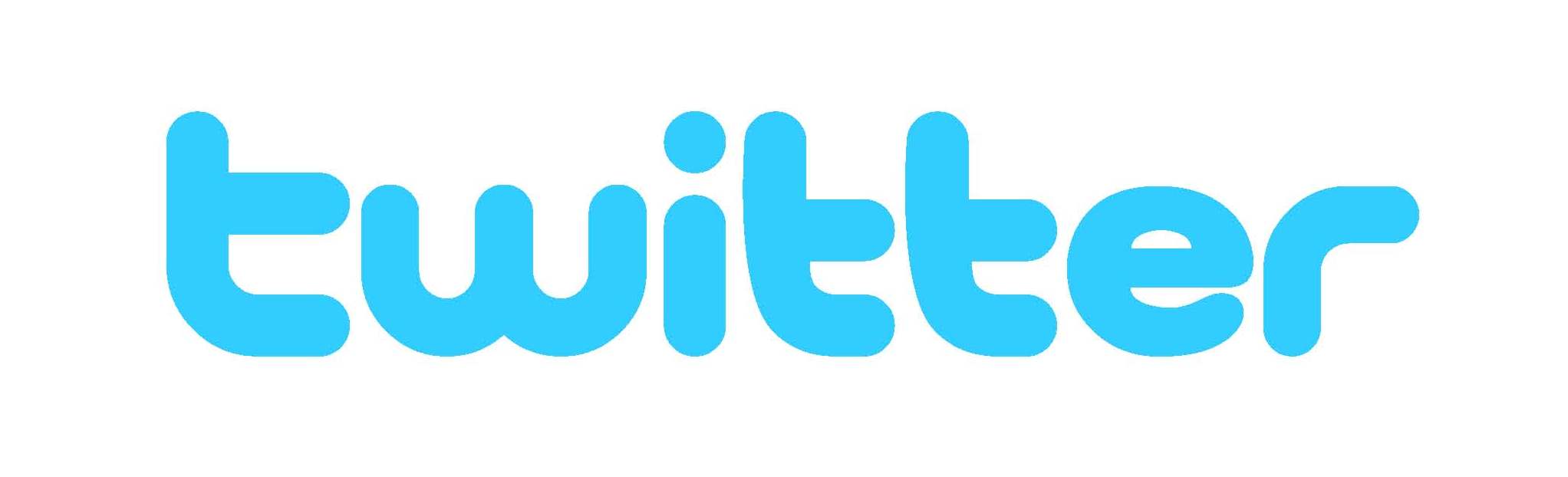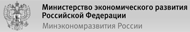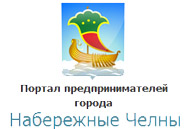В Союзе торговых предприятий РТ
17.08.2023
Продолжаем тему онлайн-продаж алкоголя с доставкой.12.04.2023
ВЫБРАТЬ ВЕРНЫЙ ПУТЬ19.12.2022
Наши поздравления!
Календарь мероприятий
Бизнес в тумане: малое предпринимательство в современной России
23.12.2015
Евгений ЯСИН:
«Состояние малого бизнеса служит показателем здоровья и творческого потенциала всей национальной экономики»
Позволю себе начать наш разговор. С моей точки зрения, уже сам по себе обмен мнениями между людьми, которые на практике занимаются предпринимательством, чрезвычайно важен. И желательно, чтобы этот разговор был откровенным. Хотя, надо признать, предприниматели сейчас нередко получают слово. Есть омбудсмены, есть соответствующие площадки и форумы, происходят какие-то события. К сожалению, я не имел возможности во всем этом принимать участие, а отчасти сам ограничил его по ряду причин.
Но сейчас хочу сказать о другом. Приближается такое время, когда в России должны произойти перемены. Так или иначе, они будут выражаться в усилении влиятельности бизнес-класса. На мой взгляд, это органически связано с тем, что дальнейшее изменение ситуации в российской экономике, повышение темпов экономического роста или, по крайней мере, выход на параметры роста, которые характерны для развитых стран, невозможно без высокого темпа технологического прогресса. Я сравниваю национальную и международную динамику технологической границы, то есть уровня технологических достижений в России и в мире. Каково наше отставание в разных областях экономики? При каких обстоятельствах происходят положительные сдвиги? За счет каких факторов? Если сдвиги не происходят, то где закладывается отставание? Эти вопросы требуют ответов.
Могу сказать, почему считаю их крайне важными. По той простой причине, что, собственно, положительную динамику российской экономики будет обеспечивать бизнес. Для того чтобы он мог это делать, должна существовать определенная общественная среда. Я подразумеваю под этим, во-первых, уровень действенности права. Во-вторых, силу конкуренции. С одной стороны, конкуренции экономической, с другой стороны, конкуренции политической, которая необходима для поддержания эффективности права, его верховенства. Период, в течение которого мы находимся в состоянии стагнации, затягивается. Нужно об этом говорить и обсуждать насущные проблемы.
Столь же важно обсуждать пути, по которым может развиваться отечественный бизнес. Особое внимание хочу обратить на развитие малого бизнеса. Участники Круглого стола, надеюсь, выскажут свое мнение на этот счет. По моим же представлениям, всякий национальный бизнес должен проходить определенные этапы созревания. И сила, энергия малого бизнеса, полагаю, является показателем здоровья и творческого состояния всей экономики.
Как мне сказали, в современной России малый бизнес составляет 25 процентов от общего числа предприятий. У меня нет четкого представления, по каким критериям определяется эта цифра. Более ранние данные указывали на долю в 5 - 7 процентов. Вероятно, в последнем случае учитывались только совсем небольшие предприятия. Для меня образец - предприятия такого типа, как то, которым управляли Стив Возняк и Стив Джобс. Вот из таких проектов и рождается творческая сила. Этот стимул потом обеспечивает мощный экономический и социальный прогресс. Если ничего такого нет, если вы просто переформатировали большое предприятие из государственных служащих и ждете от него крупных достижений, то вы их не получите.
Это принципиальный вопрос, который вызван нынешним состоянием отечественного малого бизнеса. Мало того, что его доля невелика, а если принимаются какие-то решения, которые еще сильнее осложняют его деятельность, он вообще уходит в тень. Последний пример связан с изменением налога на зарплату, который был поднят с 26 процентов до 36. Это привело к тому, что все официальные показатели в сфере малого бизнеса (количество предприятий, занятость и др.) резко упали.
Еще один аспект, на который я хочу обратить внимание, это степень доверия между бизнесом малым и бизнесом крупным и государством. Точнее, между бизнесом и властью на федеральном, региональном, местном уровне. Каково влияние этих разных слоев бюрократии на события, которые происходят в деловой жизни России и определяют экономическую динамику?
Я бы также хотел услышать ваше мнение о том, чего ожидать в дальнейшем процессе нашего развития. Очевидно, что мы прошли один период – я имею в виду трансформационный кризис, который закончился в 1998 году. Затем мы прошли второй этап – восстановительный рост. Можно считать моментом его окончания 2008–2012 годы. Затем мы стали свидетелями очередного колебания, снижения темпов роста, а позднее и объемов производства.
Теперь нам иногда говорят, что все наконец-то упорядочилось, мы стабилизировались и уже практически готовы к подъему. Этот подъем можно предположительно ожидать в 2016 году, на который прогноз экономического развития 0,8 процентов. Что же, в 1997 году рост составлял 0,7 десятых ВВП. Инфляция тогда достигала 11 процентов. В этом году ее оценивают в 12–14 процентов. Что же все это будет означать для малого бизнеса? Какие слабые места того наступательного контингента, который представлен предпринимательством? Помогут ли ему «службы тыла», механизмы поддержки, которыми мы располагаем? Какие проблемы нужно решить, чтобы ситуация последовательно улучшалась? Попрошу всех задуматься об этом. А первому предоставляю слово Олегу Олеговичу Гуськову. Он сам о себе расскажет.
Олег ГУСЬКОВ (основатель международной производственной компании Amwell Group Ltd):
«Есть мнение, что если бизнес связан с производством, то отношения с властью обязательно сложатся, но мы пока этого не заметили»
Наши проекты осуществляются в реальном секторе экономики. Первым проектом была кондитерская фабрика, затем, в начале 2015 года, мы ее продали. Сейчас работаем в системе сельского хозяйства.
Евгений ЯСИН:
А вы имеете какое-либо отношение к Высшей школе экономики?
Олег ГУСЬКОВ:
Да, я учился в МИЭФе – Международном институте экономики и финансов ВШЭ.
Евгений ЯСИН:
Это очень важный момент. В числе тех, кто будет выступать, несколько вчерашних выпускников Высшей школы экономики. Я исхожу из того, что они привязаны к этому учебному заведению навсегда. И у них сохранится ощущение ответственности за то, что происходит в стране. Пожалуйста, продолжайте!
Олег ГУСЬКОВ:
Я согласен. Но, к сожалению или к счастью, в сфере бизнеса выпускников Высшей школы экономики очень мало. Хотелось бы, чтобы их было гораздо больше.
Евгений ЯСИН:
Так они все в чиновники идут.
Олег ГУСЬКОВ:
Либо в чиновники, либо в другие страны уезжают, как многие выпускники МИЭФа. Что же, пусть уезжают.
Итак, сейчас мы занимаемся сельским хозяйством. Выращиваем фрукты, овощи. Реализуем их в России, экспортируем в другие страны. Это, наверное, такой непопулярный сегмент в молодежном предпринимательстве. Среди моих знакомых никто подобным не занят.
Отвечая на предложенные вопросы, замечу: к счастью или к сожалению, опыта диалога с властью у нас нет. Правда, и сам предпринимательский опыт у нас очень короток. Есть расхожее мнение: если бизнес связан с каким-то производственным процессом, созданием каких-либо продуктов, то отношения с властью обязательно сложатся. Но мы этого не заметили и, хотя достигали достаточно серьезного оборота, никого из властей не встретили. Ждали, ждали, ждали, на никто к нам так и не пришел. Я имею в виду госаппарат, какие-то контролирующие органы. Всё впереди, мы надеемся.
Если говорить о динамике, то в последнее время мы видим, что и в нашем сегменте, и в том сегменте, в котором мы работали ранее, компании крайне неэффективны. Те из них, кто производил неинтересные для потребителя, устаревшие продукты, просто-напросто уходили с рынка. Мы довольно активно следим за конкурентами, анализируем разные данные. И видим, как на место консервативных, неповоротливых и, откровенно говоря, глупых игроков приходят новые люди, амбициозные, предприимчивые, с массой новых идей.
Одно дело статистика по стране, которую мы видим, когда открываем экономические газеты, то есть макроэкономика. А другое дело – статистика, показывающая ситуацию в импортозамещении, говорящая об открытии новых малых предприятий.
У нас есть, так сказать, полублаготворительный проект. Мы сформировали венчурный фонд, который инвестирует средства в реальные секторы экономики. Речь не идет об инициативах в области IT, так как если вы IT-предприниматели, то вам нетрудно самим найти деньги на рынке. А вот если вы молоды и вам хочется открыть, скажем, сеть магазинов, а вы пока открыли одну точку и нуждаетесь в средствах на оборотный капитал и быстрое развитие, то деньги найти нелегко. Вот мы и стараемся заполнить эту нишу. И мы были очень удивлены, обнаружив, насколько она свободна в современной России и насколько перспективно подобное начинание. Пока нам известны лишь два фонда такой направленности. Один из них крайне политизирован, не буду его называть. Второй не слишком активен, и вряд ли молодым предпринимателям на него можно рассчитывать.
В наш фонд уже подано множество заявок, и эти заявки интересные. Год назад такого не было. Наверное, можно долго рассуждать, с чем это связано. Либо повысилась наша маркетинговая активность, либо на ситуацию повлиял уход с рынка большого количества компаний. Так или иначе, факт остается фактом.
Сами мы несколько раз привлекали иностранные инвестиции. А вот в государственных программах не участвовали, по ряду причин. Ситуация теперь изменилась, привлечь деньги стало гораздо сложней. На мой взгляд, это объясняется отчасти тем, что мало успешных примеров венчурных сделок.
В начале декабря мы провели инвестиционную сессию для 12 наших проектов. Самый новаторский из них – уникальная система лечения детей с врожденными сердечными отклонениями. Инвесторы осторожно отнеслись к проекту именно из-за его уникальности. Обычно в России начинания, основанные на передовых технологиях, либо финансируются государством, либо уже на старте продаются западным промышленным компаниям. Так, компания «Самсунг» привлекла большие средства на открытие логистического центра в Калужской области. Но очень не хватает образцов успешной пропаганды именно небольших предприятий с целью привлечения капитала на их развитие.
За весь 2014 год в сфере среднего и крупного бизнеса было совершено 297 венчурных сделок. Это крайне мало. Менее 300 сделок на рынке, где действуют 5,5 миллионов субъектов малого бизнеса! Спасибо.
Евгений ЯСИН:
Сколько у вас в компании человек?
Олег ГУСЬКОВ:
Сорок девять.
Евгений ЯСИН:
Спасибо. Передаю слово следующему участнику дискуссии.
Алексей КАРАНЮК (основатель компании Jeffrey's Coffee):
«Сегодня как-то так получается, что субсидия оборачивается для предпринимателя не выгодой, а убытком»
Я представляю, наверное, менее серьезный сектор экономики. Это кофейни, общепит. У нас четыре проекта – Jeffrey'sCoffee, NewYorkCoffee, Hotdoggerи Coffee Moose. Есть собственные проекты в Москве и Ижевске, мы также создали франчайзинговую сеть более чем в 30 городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Что можно сказать про диалог бизнеса и власти? Полагаю, что его, собственно, нет. По крайней мере, если говорить об общепите. Наверное, это отчасти хорошо. Я бы не сказал, что нас сильно трогают, но вместе с тем нам и не помогают. Простой пример. У нас больше 50 франчайзи по четырем странам. За все время лишь один из объектов получил субсидию в размере 100 тысяч рублей. Что такое 100 тысяч рублей? Это практически ничего. В Москве для малого бизнеса выделяют субсидию в размере 350 тысяч рублей. Уже не выделяют? (Смех.) Хорошо, но все равно, что такое в Москве 350 тысяч рублей? Минимальная аренда в столице обходится ежемесячно в 100 – 150 тысяч. То есть подобная субсидия – два, два с половиной месяца аренды.
Направления, которые учитываются при оказании государственной поддержки, такие: производственное, научно-техническое, молодежное. Производственное для нас сразу отпадает. Научно-техническое тоже отпадает, это несерьезно с точки зрения размеров вложений. Молодежное? Ну, может быть. Но фактически на момент получения субсидий у вас уже должен быть договор аренды. То есть бизнес так или иначе должен существовать. Зачем уже существующему бизнесу еще 350 тысяч рублей? Что он с ними будет делать? Это же не три с половиной миллиона. Чтобы куда-то эти деньги инвестировать? Что-то купить? Слишком мало.
Дальше еще одно условие. Договор аренды должен быть на три года. Между тем, наверное, большинство людей, присутствующих здесь, не знают, что в России на три года договор аренды, как правило, не заключается. Потому что он требует регистрации на три года. А это налоги. Соответственно, договор обычно подписан на 11 месяцев с правом подписания на следующие 11 месяцев. В регионах таких договоров, наверное, 80 – 90 процентов. То есть в принципе отпадают как объекты поддержки сразу все фирмы. Потому что им выгоднее подписывать на эти 11 месяцев, нежели платить налоги.
Дальше – создание рабочих мест. Не буду говорить про то, как у нас в Росси выплачивается зарплата. Это отдельный разговор. Дальше – требуется опыт работы свыше трех лет по выбранному направлению деятельности. Но это тоже большая редкость. Кто приходит с трехлетним опытом работы в те же кофейни? Как правило, это первый бизнес. Люди приходят из разных секторов экономики, и у нас нет таких, кто до этого занимался кофейнями.
И вот вроде как получил деньги, намучился, заполнил уйму анкет, кому-то еще заплатил что-то, чтобы субсидию получить. А дальше придется отчитываться. Это опять отдельный разговор. Придется всю отчетность предоставлять. А отчетность в России, сами понимаете, как ведется.
Ну и получается, что в итоге одни убытки. Вот, собственно, и вся субсидия. Зачем она нужна, непонятно.
Евгений ЯСИН:
Сколько людей у вас занято?
Алексей КАРАНЮК:
Если считать с франшизной сетью, то 200. А на собственных точках у нас 40.
Олег ГУСЬКОВ:
Можно дополнить? Я все-таки не понимаю, почему, когда дело касается диалога бизнеса и власти, у нас сразу идет разговор про субсидии. Не соглашусь с тем, что нельзя открыть производство без субсидий. И мне кажется, что все-таки субсидия – это немного развращающий инструмент. Потому что настоящий предприниматель должен сам, именно с нуля, всё пройти и выстрадать. А субсидия на старте, мне кажется, расхолаживает.
Вот есть богатые родители и богатые дети – у них всё хорошо, но одна проблема – учиться нет мотивации. Здесь примерно то же самое. И в таком случае российский бизнес максимально мотивирован, потому что у него нет никаких субсидий.
Евгений ЯСИН:
Спасибо. Слово Юрию Михайличенко.
Юрий МИХАЙЛИЧЕНКО (исполнительный директор Российской ассоциации франчайзинга):
«Сегодня в стране нет единого центра принятия решений, касающихся малого бизнеса, и это приводит к неразберихе»
Спасибо за интересную тему, интересный разговор. По-моему, очень своевременный. Сразу не могу согласиться с Алексеем Андреевичем. Он сказал, что его бизнес, насчитывающий 50 точек общепита, наверное, несерьезный и, с точки зрения экономики, не слишком привлекательный, чтобы государство на него обратило внимание. Между тем 90 процентов малого бизнеса Соединенных Штатов Америки составляет именно так называемый «лайфстайл бизнес». Это предприятия исключительно для самозанятости, как говорится, для «поддержания штанов». И это основа государства.
Любой чиновник, любой военный или служащий за рубежом обычно мечтает при выходе на пенсию открыть маленькую кофейню и таким образом кормить семью. А мы почему-то все время гонимся за инновациями, за какими-то смелыми прорывными проектами, забывая, что 95 процентов предпринимателей должны просто где-то работать, предоставляя и другим рабочие места, возможно, в том числе, людям с ограниченными возможностями. Очень важно что-то делать, большое или малое, и продавать на локальном рынке. Мы же все время, повторю, увлекаемся инновациями, без конца тратим на это деньги.
Если говорить про франчайзинг, то эффективность инвестиций в него – 85 процентов. Сравните с 15 процентами эффективности бизнеса стартапов. Что это значит? Это значит, что если вы потратили 100 государственных рублей на франчайзинг, то 85 из них пойдут действительно на бизнес и дадут отдачу, а 15 рублей в силу обстоятельств (форс-мажора) будут израсходованы впустую, так как фирмы уйдут с рынка. Если же вы вкладываете в классический стартап, то считайте, что вы потратили на некоммерческие цели 85 процентов – просто поддержали чью-то идею и помогли реализовать амбиции за государственный счет. Полезно, возможно, но не слишком ли расточительно для государства?
Я бы хотел пояснить, что представляет собой Ассоциация франчайзинга. Это 75 управляющих компаний, крупнейших сетевых операторов, у которых сети насчитывают от 400 до1000 точек продаж. Всего у нас в стране свыше 1000 таких франчайзинговых концепций. Это довольно большие структуры, которые представляют собой головную компанию – средний либо крупный бизнес и большое количество франчайзи, относящихся к малому бизнесу. Всего франчайзинговые сети сейчас включают более 45 тысяч объектов.
Это много. И если мы говорим о том, комфортно ли нам на рынке, то скажу, что даже с учетом кризиса мы сейчас показываем хорошую динамику. В этом году 15 процентов роста демонстрируют именно франчайзинговые сети. А за период с 2008-2009-го по 2012 год мы с 18 тысяч точек выросли примерно в 2,5 раза. Конечно, мы сильно отстаем от Бразилии, Мексики, Китая. Но, по нашим подсчетам, которые сделаны в том числе во взаимодействии с Высшей школой экономики и Международным советом по франчайзингу и в сопоставлении с рынками таких стран, как Бразилия, Аргентина, Мексика (даже после их кризисов), мы можем вырасти в ближайшее время до 200 тысяч точек продаж.
Теперь выскажу несколько предложений. Я согласен, что сегодня господдержка мала, и ею пользуются максимум 5–6 процентов малых предприятий. Те институты развития, которые созданы, не работают. Кроме того, диалога с властью нет, а есть, скорее всего, монолог. Это как разговор пьяного с радио. Власть что-то сказала, бизнес вроде что-то ответил, а дальше поехали сами реализовывать свои планы в меру своего представления о рынке и экономике. Поэтому, с нашей точки зрения, нужны какие-то реальные механизмы, которые вырабатывали бы основу государственных решений.
Борис Титов в свое время предлагал неплохую конструкцию – учредить совет разных бизнес-ассоциаций. Я помню, что уже налаживалось какое-то взаимодействие между производителями, дистрибьюторами и крупными сетями, которые мы представляем, стороны о чем-то договаривались. Но приняли Закон о торговле «сверху» – и всё, опять это не работает.
Единого центра принятия решений, касающихся малого бизнеса, нет. Это должен быть какой-то совет или партия, или какой-то общенациональный орган, решения которого были бы легитимными и ложились в основу как государственных программ, так и адресованной обществу информации. То есть сели, договорились по-честному, и каждый пошел выполнять свою часть работы. Такой практики нет. Каждый пытается вариться в собственном соку, а реально мы даже с коллегами по цеху договориться не можем. Производители до сих пор не могут найти общий язык с дистрибьюторами. Поэтому должен быть сформирован какой-то общий план на основе форсайта, нужна какая-то дорожная карта. Чтобы мы видели свое место в будущем и двигались вперед.
Что касается внешнего рынка. Там, кроме «трубы», практически вообще ничего нет. Несколько лет наша ассоциация представляет компании для участия в зарубежных выставках, мы пытаемся продавать наши франчайзинговые концепции за рубеж. Например, в мае мы целой делегацией ездили на выставку в Пекин. Представляли там такие фирмы как «Инвитро», «33 пингвина». Присутствующий здесь Сергей Рак представлял компанию «Стардогс». Мы хотя бы пытаемся сейчас зарабатывать валюту за счет продажи интеллектуальной собственности. На этом, собственно, зарабатывает весь мир. 95 процентов экономики США – это экспорт интеллектуальной собственности. Мы только делаем робкие попытки в этом направлении. И поддержки у бизнеса в этом вопросе никакой – сами с усами, сами по себе варимся.
И я считаю, что обязательно нужно двигаться по двум направлениям, я имею в виду внутренний рынок и внешний рынок. Раз мы на глобальном рынке, так давайте вести себя по правилам, которые установлены там. Внутри, «за забором», мы можем делать все, что угодно, лишь бы это было максимально эффективно. Сейчас мы столкнулись с тем, что в стране, в которой вроде бы уйма денег, вообще нет капитала для развития. Почти все наши компании держатся за счет внутренних ресурсов. Надежнее всего использовать деньги родственников, приятелей и какой-то группы частных инвесторов, которые скинулись и поддерживают конкретный бизнес. Малый, средний – не важно. У нас не развиты формы краудфандинга, не развит кредитный кооператив. У нас не развиты трасты. У нас не развиты формы взаимного кредитования.
Обществу необходимо дать хотя бы модели, чтобы люди видели, как это создается и как работает, как возвращаются деньги. Кто будет этим заниматься, власть? Не будет она этим заниматься. Ей это не надо. Ведь глава ВТБ Костин даже сказал с большой трибуны, что бизнес вообще нет смысла кредитовать. Пускай, мол, сам развивается, а банки сами по себе. У них свои формы заработка. Они зарабатывают запросто на гособлигациях и на прибылях в своих компаниях, где являются учредителями.
Еще одна проблема, с которой мы сейчас столкнулись, это отсутствие кадров. В вузах их практически не готовят. Я говорю о компетентных кадрах, приносящих отдачу. И еще одна актуальная проблема, во всяком случае, для наших отраслей, –инфраструктура. Зачем нам выстроенный из мрамора с позолотой торговый центр, в котором неимоверная арендная плата?
Только представьте, сейчас арендная плата составляет 70 процентов в себестоимости продукции. Это затраты, которые не позволяют компаниям расти. Почему в странах Азии и в США могут заасфальтировать площадку, подвести туда коммуникации (электричество, вода, канализация), чтобы просто сдавать место на этой территории, а мы не можем? Мне ведь выгодней поставить коробку, обложить ее кирпичом и арендовать этот кусок земли за 1000 долларов в год,