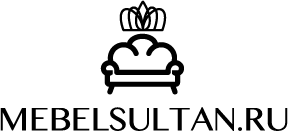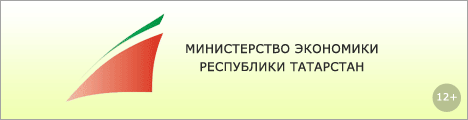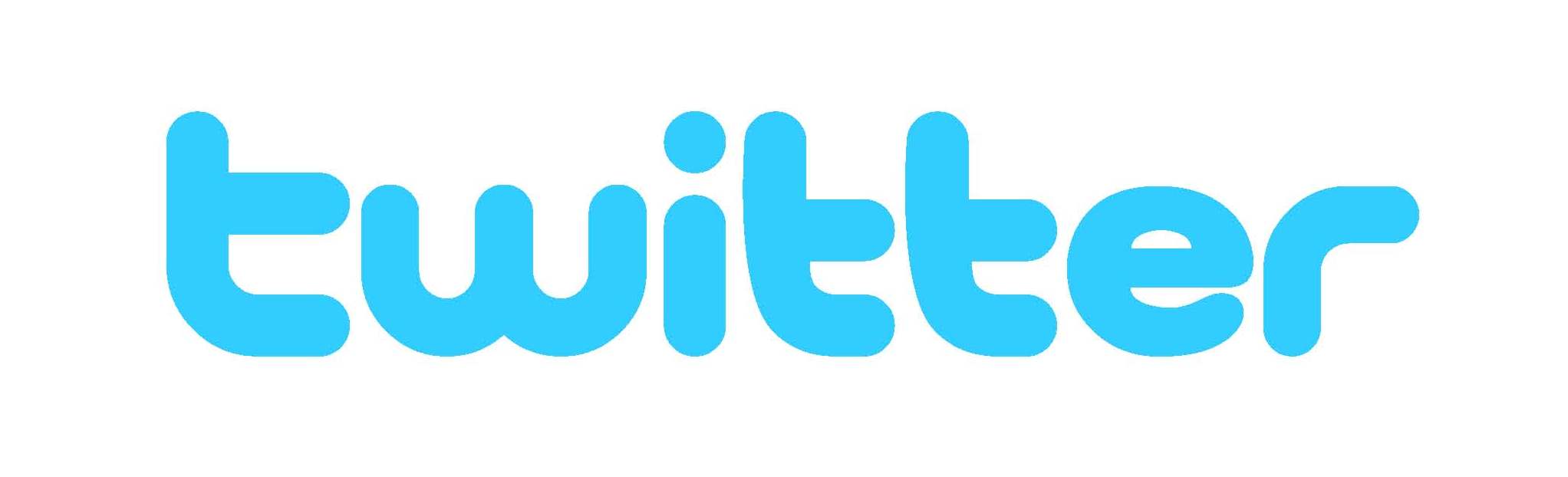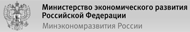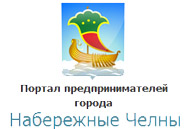В Союзе торговых предприятий РТ
17.08.2023
Продолжаем тему онлайн-продаж алкоголя с доставкой.12.04.2023
ВЫБРАТЬ ВЕРНЫЙ ПУТЬ19.12.2022
Наши поздравления!
Календарь мероприятий
Кризис никуда не ушел, он лишь несколько замедлился
04.11.2013
Экономист, методолог и предприниматель Игорь Злотников в интервью "7 секретам" дает характеристику контекста событий, так или иначе связанных с Obamacare.
[AD]- Чем примечателен этот октябрь посткризисного времени?
- Почему вы говорите "посткризисного"?
- А я повторяю за экспертами. Латвийскими и прочими.
- Я считаю, что кризис никуда не ушел. Он всего лишь несколько замедлился. В 2010 году я опубликовал текст, в котором, опираясь на представления об этапах и фазах кризиса, сформулированных некоторыми исследователями, предложил свою версию временных рамок нынешнего кризиса. Я ошибся в скорости разворачивания кризиса. Тогда, в 2010 году, мне представлялось, что все будет происходить гораздо быстрее. В 2010 году я думал, что к 2013-му, 2014-му будет коллапс. А коллапса пока нет - удается удержать ситуацию.
Но мы прошли уже два этапа кризиса. Первый - финансовый кризис. Мы его наблюдали в 2007, 2008 годах. В Латвии - это 2009 год. Второй этап - кризис реальной экономики. Сокращение рабочих мест, сокращение общего экономического драйва... Третий этап - кризис экономической системы. Системы, которая была создана после Второй мировой войны. Вот мы сейчас находимся на этом этапе.
- А почему не произошел коллапс?
- По разным причинам. В том числе и потому, что внимание было переключено на совершенно иные, внеэкономические сферы. С одной стороны, как раз в 2011 году началась "арабская весна". А с другой произошли многие серьезные природно-геологические изменения. Произошла катастрофа в Японии, были действительно очень серьезные последствия аварии в Мексиканском заливе. Обсуждаются вопросы, связанные с таянием льдов. В моем понимании, этот фон геолого-климатических изменений потихоньку становится главным. Кроме того, на этом фоне многое происходит с людьми. Рушатся некоторые самые существенные принципы общественного жизнеустройства. Происходит очень серьезная трансформация ранее очень привычных жизненных основ. В том числе - религиозных. Кто бы мог подумать, что кризис веры инициируют сами священнослужители? Я имею в виду католическую церковь. Морально-этические основы теряют стабильность. Возникают непредсказуемые действия толпы. За примерами далеко ходить не надо. Начиная с недавних событий в Москве и заканчивая разными неожиданными выступлениями людей в Турции, Швеции, Англии... Все эти события, на мой взгляд, связаны с некой трансформацией. Трансформацией всей системы жизнедеятельности, трансформации устройства привычного мира. И мы находимся внутри этой трансформации.
- А не есть ли то, что вы называете "трансформацией", результатом искусственного манипулирования?
- Там есть искусственная составляющая, но есть также и естественная. Оценивать эту глобальную трансформацию очень сложно, поскольку ситуация требует совершенно иных средств для фиксации событий. Это моя сугубо личная точка зрения. Безусловно, у меня нет ответа на все вопросы. Мы действительно многого не знаем, многого не понимаем. Вся сложность в том, что у нас нет понятий, рациональных представлений, в которых мы бы могли охватить и понять то, что происходит. Поэтому мы и не готовы к тому, что может случиться.
- Но как бы глобально мы ни смотрели на ситуацию, экономика из общей картины никуда не делась. А вы, упомянув Вторую мировую войну, внесли еще и временную составляющую. Почему?
- Потому что исторический подход к пониманию экономических систем позволил бы нам гораздо более точно прослеживать влияние тех или иных исторических событий на экономику, рассматривать экономические системы не как статические, а как находящиеся в историческом развитии. Это давало бы возможность определенного понимания путей развития экономики. Но после Второй мировой войны, когда определяющими в экономическом анализе стали политическая целесообразность и экономическая конъюнктура, исторический подход стал уделом университетской науки и перестал влиять на принимаемые управленческие решения. Исторического взгляда не хватает. Я, например, считаю, что разработки исторических школ в экономике после Второй мировой войны были специально забыты.
- Не в этом ли одна из причин, например, того, что у Евросоюза до сих пор нет плана, как привести реальную ситуацию в соответствие с провозглашенными самим ЕС целями?
- Я повторяю, ситуация осложняется тем, что (в плане анализа и рассуждения) мы на протяжении уже достаточно длительного времени находимся в оковах старых понятий. То есть пытаемся к новым событиям применить старые представления. И так как события уже новые, а представления старые, мы не ухватываем то, что происходит. А с другой стороны, мы не можем во всех этих трансформациях увидеть новое, чтобы точно сообразить, что у нас нет понятий под новые события.
- Значит, ли это, что происходят события, которые мы - человечество - не в состоянии осмыслить? Что-то вроде ситуации, когда высказанные идеи (например, идея всеобщей занятости) адаптируются в обществе лишь через сто или двести лет?
- Может быть. Более того, я считаю, что мы и к самой истории относимся достаточно невнимательно. Как раз ХХ век красноречиво показал, что мы живем не в естественной истории, а в истории проектов. И восстановление, и реконструирование нашей истории как истории проектов могло бы показать, какой проект оказался мощнее, какой слабее, а какой сейчас является доминирующим. Но эта история проектов не стала предметом специальной рефлексии. Допустим, Соединенные Штаты Америки. Совершенно удивительный проект, замысленный отцами-основателями Америки: в новых условиях для ХVIII века сделать республику, которая никогда бы не могла попасть под влияние монархии (в первую очередь - британской), в которой у людей было бы право на самостоятельный поиск собственного счастья. Отсюда идея прав человека - на счастье, права человека на активность, предпринимательство, право на собственную жизнь... Этот проект через сто лет стал ведущим - все устремились в Америку. И всем хотелось жить, как в Америке. А еще через сто лет, в конце ХХ века, американский проект нельзя сказать, что закончился... Он был подмят другим проектом. Произошел реванш Британской империи, и она подмяла под себя республиканский проект Соединенных Штатов. Об этом серьезно и аргументированно говорит Линдон Ларуш. Он считает, что в 60-70-х годах ХХ века республиканский проект закончился. Об этом пишет Патрик Бьюкенен. Он также считает, что произошла некоторая реставрация британского имперского проекта. И США превратились в империю. Америка, как идеал республики, которая для очень многих являлась символом свободы, символом возможностей, стала империей.
И мне кажется, что очень многие вещи здесь должны быть осмыслены с пониманием того, что у каждого проекта есть свой срок. Конечно, огромную роль сыграла Вторая мировая война, из которой Америка вышла победителем. Противостояние же Советскому Союзу как тоже определенному типу империи фактически закрыло возможность анализа того, как Америка трансформируется из республики в империю. Было противостояние двух империй. А когда противостояние в начале 90-х закончилось, превращение Америки в империю ускорилось, и сейчас традиционный американский миф о свободе, по-моему, сводится на нет. Что делает в таком случае любая власть, люди, которые стоят у руля? Они начинают осуществлять проекты, которые могут сохранить общий политический и властный тренд как можно дольше. Но, с другой стороны, и у империй может быть сценарий: надо сделать во всем мире так плохо, чтобы все попытки что-то трансформировать в самой империи просто не ставились на повестку дня. Это, на мой взгляд, одна из серьезнейших не то что неосвещенных, скорее, необсуждаемых ситуаций.
То, что сейчас происходит с Америкой, - это доказательство того, что экономическая система, созданная на основе одной мировой валюты - доллара - входит в глубокую кризисную ситуацию. Очевидно, что огромные долги США только усугубляют эту положение. По разным оценкам, государственный долг (долг правительства США) составляет на данный момент порядка 17 трлн. долларов, а величина совокупного долга страны - 41,04 трлн. То есть совокупный долг США в 2,4 раза больше величины государственного долга США. Совокупный долг США, оцененный Федеральным резервом, оказывается равным примерно 250% ВВП. Неофициальные оценки совокупного долга США оказываются существенно выше - большинство таких оценок находится в диапазоне от 60 до 70 триллионов долларов. Такие долги одной страны не могут дальше конституировать мировую экономическую систему.
- А кто играет проектами? Кто главный? Неужто государства?
- Нельзя говорить, что это государства. Это клубы. Сейчас в Америке реальный клинч между двумя группами элит. Конфликт элит. Условно - республиканцы-демократы, хотя на самом деле за всякими такими простыми схемами мы фактически видим, как разные элиты, разные проекты входят не просто в противоречие друг с другом, а идет реальная борьба этих проектов будущего.
- А мне кажется, что в публично обозначенных проектах главным пока является не будущее, а сохранение статус-кво той или иной элитной группы.
- Это тоже есть. Понимаете, у нас (я имею в виду тех, кто пытается это понять), во-первых, не так много информации. Посмотрите, что произошло, когда появилось Wikileaks? Что произошло, когда сработал так называемый "эффект Сноудена"? Когда информация, о которой все немножко слышали, о которой догадывались, была подтверждена документальными доказательствами? Доказательствами того, что происходит не просто нарушение всеобщих прав, за которые якобы выступает Америка, а это делается систематически и как бы целенаправленно.
И тут мы в какой-то момент приходим к кризису легитимности. Я это описывал как один из этапов кризиса. То есть вся существующая правовая, легитимная база не только не работает, а все действия властей, людей, которые принимают решения, представляют собой нарушение закона в самых ключевых точках.
При этом, конечно, надо отдавать себе отчет, что из-за таких вот манипуляций, которые выражаются в недосказанности, в недоинформированности, в нечеткости фиксаций, мы не можем дойти до сути вопроса. Например, кто в той же Сирии применял химическое оружие? Идет действительно очень серьезная, эшелонированная борьба разных гипотез, разных версий. Что есть на самом деле, не могут установить даже эксперты ООН. Вроде бы им дано право быть последней инстанцией, которая будет фиксировать факты. Но и сами факты могут быть интерпретированы по-разному. Мы находимся к тому же в ситуации борьбы не просто проектов, а представленности этих проектов в медиапространстве. Что происходит на самом деле, установить практически невозможно. Если не выстраивать некоторую свою понятийную систему.
- Значит, Америка, мягко говоря, перестает быть центром стабильности мировой экономической системы? Осознано ли это сейчас и появляются ли новые центры?
- Я думаю, осознано. Посмотрите последние встречи G-20. В Петербурге отдельно встречались страны БРИКС. Они создали новый банк. И внутри этого банка, как я понимаю, отказываются от доллара. Я думаю, что ситуация идет в том направлении, что будет несколько эмиссионных центров региональных валют, и от этого мозаика мировой экономики будет уже другой.
- Что же остается Америке?
- Либо всякими правдами и неправдами сохранять за собой роль лидера, либо целенаправленно уходить от проблем мировой экономики и сосредотачиваться на том, что происходит в самой Америке. Мне как раз кажется, что администрация Обамы во многом идет по второму пути. То есть он ставит во главу угла те проблемы, которые нужно решить самой Америке. Десятки миллионов американцев живут на продовольственные карточки. Большое количество городов - фактические банкроты. Огромное число безработных.
Отсюда - тенденция возврата целых производств обратно в Америку...
- Но тогда непонятно, почему при таком положении американцам продемонстрировали какую-то ультимативную гражданскую "войну" верхов? Или это сильно сказано?
- Существуют реальные проблемы, которые должна решать американская администрация. Обама в этом плане точно понимает, что, имея более 50 миллионов человек, которые не защищены даже минимальными полисами здравоохранения, он имеет огромный потенциал социальных конфликтов. Государство или по крайней мере администрация должны сделать так, чтобы этих конфликтов не было. Чтобы люди, от безысходности теряющие человеческое, не стали громить и бунтовать. Человеческая природа в этом плане нисколько не изменилась. Она остается во многом агрессивной, во многом животной. Вот эти, связанные с массой людей, у которых нет достойных форм жизни, проблемы, на мой взгляд, решает президент Обама.
С другой стороны - республиканцы, у которых есть совершенно точное понимание того, что каждый сам за себя, что бюджетные средства во многом не должны тратиться на тех, кто не может сам себя обеспечить. Дарвинистский подход к взаимодействию разных людей. Выживает сильнейший. Вот, собственно, конфликт двух концепций проживания.
- Идеология как причина конфликта между Конгрессом и администрацией президента США мне кажется поверхностной.
- Конечно, это поверхностно. Я не являюсь специалистом по американскому бюджету, но я точно понимаю, что очень многие статьи американского бюджета подвергаются сокращению. Идет огромное сокращение военных расходов. Это реально влияет на американский военно-промышленный комплекс, который находится в частных руках и обеспечивает огромную военную машину. Обама же, который, на мой взгляд, старается сосредоточиться на внутренних проблемах Америки, точно не хочет ввязываться в какие-то новые военные действия. Это противоречит интересам ВПК. Это означает сокращение заказов, бюджетных статей... А военные, как правило, существуют за счет бюджета.
Кроме того, как я понимаю, происходит также сокращение американской финансовой помощи другим странам. А это значит сокращение очень многих проектов и программ, которые разрабатывались еще республиканской администрацией во времена президента Буша. Очевидно, Обама эти проекты финансировать не хочет. Есть огромное количество интересов, о которых мы можем только догадываться. Они связаны и с Ближним Востоком, с определенными американскими стратегиями в Африке... Америка, как великая империя, так просто свои позиции сдавать не может. А имперский крен Америки идет от партии республиканцев.
- Стороны договорились до 17 октября. Что дальше?
- То, что не случилось в 2010 году и не случилось 17 октября, может случиться через некоторое время. Они договорились. Все свободно вздохнули. Но соглашение заключено на три месяца. Вопрос очень простой - на какой срок американские элиты смогут договориться, чтобы только что имевшая место ситуация не воспроизвелась? Сейчас на три месяца, а потом? Учитывая, что долг все-таки растет по экспоненте, - на месяц, на недели, дни... В конце концов, как это ни печально, момент истины настанет. Вопрос - когда? Либо произойдет что-то, что еще раз отодвинет коллапс, либо он все-таки случится.
- Случится - в каком масштабе?
- Если что-то в нынешней ситуации произойдет в Америке, пострадают все. Я думаю, что американцам будут помогать все. Никто не хочет катастрофического развития событий.
- Помогать как?
- Грубо говоря, так, как помогали всегда. Ведь основные держатели американского долга - китайцы, бразильцы, Европа, Россия. То есть все крупные страны фактически завязаны на Америку.
- Дадут еще взаймы?
- Думаю, да. Вопрос: кто первый скажет - все! Ребята, мы больше не можем. Я думаю, что все это и на G-8 и на G-20 обсуждается. Мы же не имеем доступа к стенограммам обсуждения. Эту информацию нам должен дать кто-то типа Сноудена. Основная задача - не допустить паники. Потому что люди будут реагировать очень чувствительно.
- Вот людей я в этой властной, элитной суете как-то вижу меньше всего. Им даже не дано знать, прошел ли кризис и на что реально им рассчитывать в будущем.
- Я думаю, что на любом уровне есть понимание того, что кризис никуда не ушел. При всей великолепной технологии манипулирования общественным сознанием очень многие люди понимают, что происходит.
А решения зависят от тех, кто их принимает. Три года американцы и другие оттягивали коллапсические события. Выигрывали время. И, я думаю, что не теряли его зря. Для всех, кто принимает решения, ситуация катастрофического разворачивания событий стала нормальной ситуацией обсуждения действий. Я думаю, что на политическом уровне есть и сценарии. Если будет катастрофа, будем делать то-то и то-то.
Почему сценарии не оглашены? Потому что в будущем этот вот коллапс все-таки должен обязательно произойти. Без коллапса не будет выздоровления. А если предвидится неприятная ситуация, то оглашать заранее этого никто не станет. Есть известное высказывание Владимира Александровича Лефевра: "Человек есть система, превращающая свои опасения в явь".
- Я все-таки хотел бы найти в контексте грядущего свое место и уровень действия. Опасность неминуема, а с нами обращаются, как с лохами и баранами. Что важно в американской ситуации именно для нас?
- Нам важно не пропустить момент, с которого надо серьезно говорить об очень серьезных неприятностях. Решить, в какой форме о них рассказывать, чтобы, с одной стороны, не вызвать некой паники, а с другой - чтобы действительно не потерять способность действовать разумно даже в самых неприятных ситуациях.
Если бы они в Америке не договорились, то это был бы первый сигнал, что надо готовиться к худшему. Но пока что они все-таки удерживают некоторый разумный вариант внутренней ситуации. Это для нас сигнал, что еще есть надежда продлить время. А надежда, что все само собой рассосется, по-моему, ошибочна. Не рассосется. Вопрос - когда и при каких обстоятельствах.
Как быть людям? В самой сложной ситуации самые близкие люди - это семья. Я думаю, что в любой, самой сложной ситуации надо укреплять семью. Если мы хотим выжить, то мы можем выжить только вместе, а не за счет кого-то. Мне кажется, что думать надо в этом направлении. Я все-таки верю, что есть внутренние человеческие основы, которые даже в самых критических ситуациях не сломаются и люди не перестанут быть людьми.