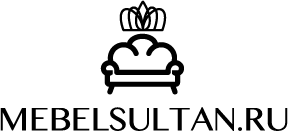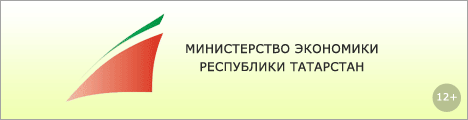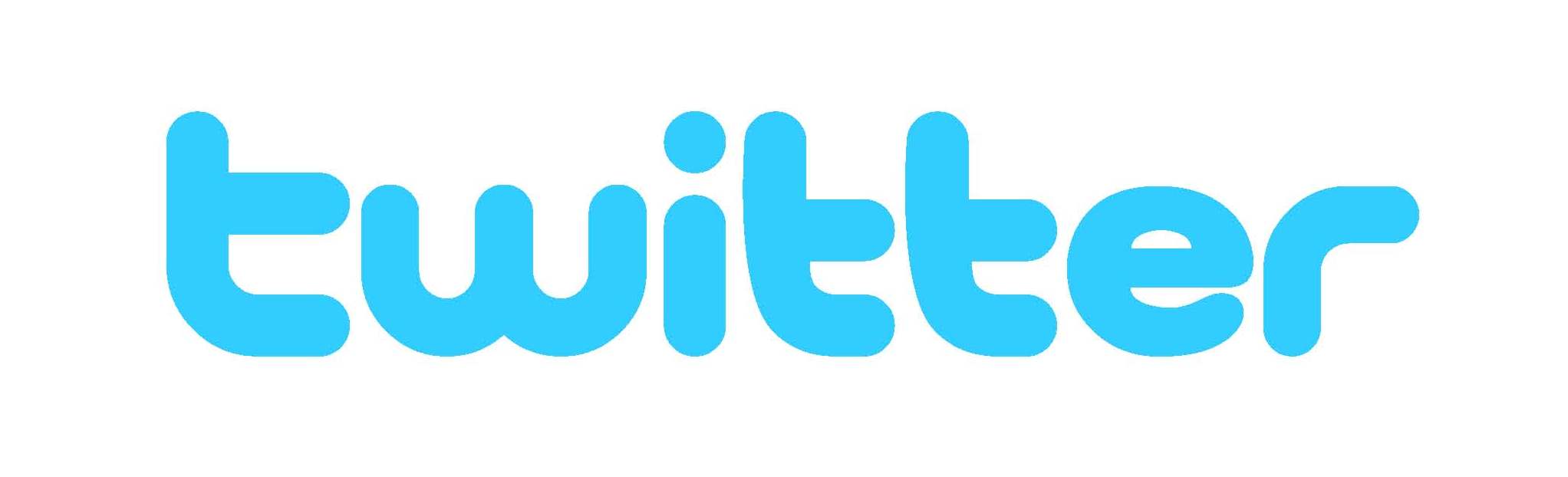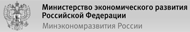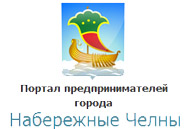В этом году (1 января) исполнилось 70 лет со дня вступления в силу Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Его основной целью было содействие послевоенному восстановлению во многом разрушенной мировой экономики с помощью либерализации и расширения международной торговли. Многосторонняя экономическая дипломатия ГАТТ способствовала устранению тарифных и нетарифных барьеров (в частности, средняя таможенная пошлина снизилась с 40% в конце 1940-х годов до 4% в середине 1990-х), разработала режим наибольшего благоприятствования в торговле и внесла решающий вклад в ослабление протекционизма и создание договорно-правовых условий для стремительного роста глобального товарообмена: со 121 млрд долл. в 1948 г. до 7493 млрд долл. в 1993 г. (в 62 раза), что превышало темпы роста мирового ВВП [World Trade, p. 92, 93].
В 1995 г. на базе ГАТТ была создана Всемирная торговая организация (ВТО), ставшая, наряду с Международным валютным фондом (МВФ) и Всемирным банком, главной институциональной опорой процесса глобализации и складывания современного мирового экономического порядка. Деятельность ВТО приобрела универсальный характер и охватила большинство стран мира. На сегодняшний день организация насчитывает 164 участника и 23 наблюдателя. Напомним, что Российская Федерация присоединилась к ВТО в августе 2012 г. и в тот момент стала 156-м членом этой организации [WTO].
Образование ВТО позволило международному сообществу распространить сферу многостороннего регулирования не только на торговлю товарами, но и на услуги, роль которых в постиндустриальном обществе резко возросла (с этой целью было принято Генеральное соглашение о торговле услугами – GATS), а также обратить внимание на ряд других новых экономических явлений. Например, было выработано Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPs), регулирующее коммерческие вопросы интеллектуальной деятельности и ставшее неотъемлемой частью правового фундамента политики ВТО.
Вместе с тем в первые десятилетия XXI в. институты глобального торгово-экономического и финансового регулирования испытали на себе сильные негативные эффекты общемировых кризисных потрясений, что отрицательно сказалось на международной торговле и поставило экономическую миросистему перед новыми, ранее не известными вызовами.
Меняющиеся реалии
Обрушение объемов глобального товарооборота в кризисном 2009 г. и отмеченное в 2015‒2016 гг. торможение роста мировой торговли стали элементами общей нестабильности международной экономики, в полосу которой вступило большинство развитых и развивающихся государств.
Разумеется, проблемы мировой торговли имеют свою специфику. В последнее время эксперты отмечают ряд новых явлений, характеризующих текущее состояние и тенденции развития торговых обменов. В том числе: замедление темпов роста торговли относительно мирового ВВП и снижение ее восприимчивости к динамике совокупного спроса; падение интенсивности торговли в рамках глобальных цепочек стоимости (ГЦС) под влиянием меняющихся экономических и технологических факторов; активизацию политики решоринга – возвращения в развитые государства производств, ранее вывезенных в развивающиеся страны; ослабление стимулов к дальнейшей либерализации международной торговли и т.д. К этому, как справедливо указывают российские ученые-экономисты А.Н. Спартак и А.Е. Лихачев, следует добавить влияние цифровой трансформации производства и четвертой промышленной революции, сдерживающих рост мировых товарных обменов в их традиционном виде [Спартак, Лихачев, c. 7]. Судя по всему, в обозримом будущем международная торговля будет все глубже интегрироваться в национальные экономические системы и становиться суммой товарных и сервисных транзакций не столько между странами, сколько между компаниями, предприятиями и домохозяйствами, ощутимо расширит свой виртуальный сегмент.
Таблица 1
Динамика глобального ВВП и мировой торговли
|
Показатель
|
1990-1999
|
2000-2008
|
2009-2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
|
ВВП (%)
|
2,9
|
4,2
|
3,3
|
3,6
|
3,4
|
3,2
|
3,6
|
|
Торговля (%)
|
6,5
|
6,6
|
2,8
|
3,8
|
2,8
|
2,4
|
4,2
|
|
ВВП (трлн долл.)
|
27,4
|
43,8
|
70,1
|
78,6
|
74,3
|
75,4
|
79,3
|
|
Торговля
(трлн долл.)
|
5,8
|
11,5
|
20,5
|
23,7
|
21,0
|
20,6
|
22,3
|
Источник: [IMF].
Данные статистики, приведенные в табл. 1, убедительно подтверждают тезис о возникших перебоях в мировой торговле. Вплоть до глобального финансово-экономического кризиса 2009 г. и последовавшей рецессии темпы роста международного товарооборота значительно опережали динамику увеличения ВВП. Если в 1990-е годы (в среднем за год) объем торговли составлял 21% мирового продукта, то в 2014 г. этот показатель превысил 30%. Однако в годы кризиса дало о себе знать торможение роста товарооборота, а угроза протекционизма и международных торговых конфликтов стала реальностью.
Опасность торговых войн усиливается тем, что в настоящее время значительное число государств чрезвычайно сильно (порой критически) зависят от экспорта своей продукции и импорта многих товаров как потребительского, так и капитального (инвестиционного) назначения. Не случайно нобелевский лауреат Пол Кругман еще в середине 1990-х годов ввел в оборот термин «экономики-супертрейдеры» (“supertrading economies”), имея в виду те государства, у которых внешнеторговая квота превышает 100% ВВП [Krugman]. В то время такие экономики были сравнительно немногочисленны, но на сегодняшний день «супертрейдеров» в мире насчитывается порядка 50, а кроме них существуют еще десятки стран, включая Российскую Федерацию, заинтересованных в поступательном развитии глобальной торговли и стабилизации рынков сырьевых и промышленных товаров. Так, в нашем случае бурный рост экспорта в 2000‒2012 гг. (со 105 до 529 млрд долл.) позволил существенно улучшить ключевые макроэкономические показатели и способствовал ощутимому подъему жизненного уровня большинства российского населения.
В постоянно меняющихся глобальных условиях особенно важен согласованный многосторонний подход ведущих стран мира к возникающим проблемам. Только таким путем можно предотвратить сползание к международным торговым войнам и дальнейшую дестабилизацию глобальной финансово-экономической ситуации. Пониманию этого резко противоречит запись, сделанная Д. Трампом в твиттере в начале марта 2018 г.: «Торговые войны полезны и их легко выиграть». Президенту вторит министр финансов США Стивен Мнучин, который на встрече Большой двадцатки в Буэнос-Айресезаявил: «Принимая во внимание размеры нашей (американской. – П.Я.) экономики, нам нечего опасаться торговых войн» [Cué, Rivas Molina].
Подобный подход способен круто изменить существующие правила международной торговли, и не в плане их оптимизации и совершенствования, против чего трудно возражать, а в духе лозунга «America First» («Америка прежде всего»), что неизбежно приведет к ущемлению финансово-экономических интересов других стран.
США в ловушке глобализации по-китайски
Ключевой тезис предвыборной программы Д. Трампа в сфере внешнеэкономических отношений сводился к необходимости сокращения огромного дефицита Соединенных Штатов в торговле товарами, достигшего в 2017 г. 863 млрд долл., из которых на долю Китая пришлось 396 млрд, или 46% совокупного объема. (Правда, Д. Трамп обычно не упоминает, что у Вашингтона высокий профицит в торговле услугами, в 2016 г. – более 262 млрд долл.) [ITC]. Сокращение торгового дефицита, по замыслу хозяина Белого дома, может быть достигнуто двумя путями: введением ограничительных импортных пошлин и принуждением партнеров (с помощью политического нажима и шантажа) к тому, чтобы добровольно сократить экспорт в США или увеличить закупки американских товаров. Таким образом Д. Трамп рассчитывает улучшить финансовое положение Соединенных Штатов, чей государственный долг в марте 2018 г. превысил астрономическую сумму в 21 трлн долл. (порядка 110% ВВП), и создать новые рабочие места в местной обрабатывающей промышленности, прежде всего в штатах так называемого «ржавого пояса» (Rust Belt) – Пенсильвании, Огайо, Индиане, Мичигане, Иллинойсе.
Возникает закономерный вопрос: почему во внешней торговле такой высокоразвитой страны, как США, образовался огромный дефицит? Вашингтонская администрация считает, что это – результат «нечестной» и «нарушающей рыночные принципы» торговой политики, которую проводят отдельные партнеры. В частности, речь может идти о применении развивающимися государствами более высоких таможенных тарифов, чем те, которые существуют в Соединенных Штатах. По данному вопросу Совет экономических советников при Белом доме проинформировал президента, что американские импортные пошлины в среднем составляют 5‒6%, тогда как в развивающихся странах они достигают 23‒24%. Более того, Пекин, например, незаконно субсидирует свои компании, чтобы они могли поглощать американских конкурентов в таких отраслях, как робототехника и развитие искусственного интеллекта, а в качестве условия выхода на китайский рынок требует от иностранных фирм создавать совместные предприятия в КНР и передавать местным партнерам новейшие технологии [Enhancing].
Безусловно, проблема дефицита торгового баланса США существует, но это явление обусловлено не только (и не столько) политикой Китая и других экспорториентированных стран. Причины уходят корнями в структуру американской экономики, отражают специфику национального спроса и потребления последних десятилетий, особенности бюджетной политики. В частности, государственный бюджет Соединенных Штатов стабильно сводится с крупным отрицательным сальдо (по оценкам, в ближайшие годы его объем превысит 1 трлн долл.), которое покрывается не за счет внутренних сбережений, а путем новых внешних заимствований. Другими словами, американское население не склонно экономить и сберегать, что толкает вверх потребление, в значительной мере обеспеченное импортом. В результате, как отмечал корреспондент The Wall Street Journal Джош Зумбрун, протекционистские действия по ограничению торгового дефицита, не подкрепленные структурными изменениями внутреннего порядка, «бьют мимо цели» [Zumbrun].
Тем не менее, будучи убежденным сторонником простых решений сложных проблем, Д. Трамп считает возможным снизить дефицит торгового баланса с помощью ограничения импорта и достижения двусторонних договоренностей с зарубежными партнерами об увеличении закупок американских товаров. С этой целью с самого начала своего пребывания в Белом доме президент фактически через колено ломает прежний внешнеэкономический курс, стараясь изменить то, что, по его мнению, представляет собой «глобализацию по-китайски» [Яковлев. «Эффект Трампа»]. Напомним знаковые решения, имевшие максимальный международный резонанс:
1. Выход Вашингтона из уже подписанного 12 странами соглашения о создании Транстихоокеанского торгового партнерства (ТТП) – потенциально крупнейшего межрегионального объединения, формирование которого энергично лоббировало правительство Барака Обамы в качестве своего «звездного проекта». Стратегически важной особенностью этого мегаблока было неучастие в нем КНР, что в американском политическом истеблишменте рассматривалось в качестве эффективного способа сдерживания китайской торгово-экономической экспансии в критически важном Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Парадоксальным образом Д. Трамп, торпедировав ТТП, ослабил позиции на тихоокеанских товарных и инвестиционных рынках не Китая, а США. На это, в частности, указывали многие авторитетные зарубежные эксперты [Montes, Fariza].
2. Отказ от продолжения переговоров с Европейским союзом о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП). И это после того, как в течение нескольких лет сами Соединенные Штаты «выкручивали руки» европейцам, убеждая их создать это интеграционное межконтинентальное мегаобъединение [Яковлев. Трансатлантическое]. Не удивительно, что в европейских столицах демарш Белого дома был воспринят как признак неблагополучия в сфере экономических связей между союзниками, сигнал к началу «выяснения отношений».
3. Инициация переговоров с Канадой и Мексикой о ревизии условий Североамериканского договора о свободной торговле (НАФТА). Этот договор, вступивший в силу 1 января 1994 г., Д. Трамп неоднократно называл «худшим торговым соглашением всех времен, подписанным Америкой» и «катастрофой» для американской промышленности. Но очевидно и другое: за два с лишним десятилетия функционирования НАФТА американские, канадские и мексиканские предприятия образовали сотни кластеров и цепочек добавленной стоимости, между тремя североамериканскими экономиками возникла плотная сеть взаимовыгодных межкорпоративных инвестиционных и производственных связей, которые невозможно разорвать без тяжелых последствий для стран-участниц [Школяр].
4. Требования к Китаю и Германии, этим «левиафанам глобальной экономики», существенно сократить их крупное положительное сальдо в торговле товарами с США (так называемые «добровольные соглашения о сдержанности»).
5. Введение летом 2017 г. запретительных пошлин (до 72%) на импорт аргентинского биодизеля, объем которого составлял порядка 1,2 млрд долл. в год. Заметим в этой связи, что с Аргентиной у США активный торговый баланс, суммарно составивший в 2015‒2017 гг. 13,3 млрд долл. [ITC]. Таким образом, речь не о выравнивании торгового обмена, а о наращивании активного сальдо США в торговле с южноамериканским партнером.
6. Ограничение (также путем применения высоких импортных тарифов в размере 30%) ввоза солнечных панелей из Китая и стиральных машин из Южной Кореи. Обосновывая это решение, Д. Трамп отмечал, что международная конкуренция полностью «выбила с рынка» американских производителей стиральных машин, а из 32 местных компаний, выпускавших панели для солнечных батарей, остались только две, и те «доживали последние дни» [Remarks by President Trump in Listening].
7. Запрет Белого дома на покупку сингапурской корпорацией «Broadcom» (контролируемой китайским капиталом) американского производителя полупроводников и коммуникационного оборудования «Qualcomm». Тем самым была сорвана колоссальная сделка стоимостью в 117 млрд долл., в результате которой могла появиться на свет одна из крупнейших в мире высокотехнологичных компаний. При этом вашингтонская администрация в правовом отношении опиралась на закон 1950 г., принятый в условиях царившей в США антикоммунистической паранойи [Ferrer Morini].
Как видим, Д. Трамп не ограничился провокативными заявлениями, сделанными в ходе избирательной кампании, но предпринял конкретные шаги по изменению правил игры в мировой торговле.
НАФТА в процессе ревизии
Действовавший с начала 1994 г. в Северной Америке договор НАФТА способствовал значительному росту торговли между его участниками (США, Канадой и Мексикой), стимулировал увеличение инвестиционных потоков и развитие деловых связей между предприятиями трех стран.
Когда Д. Трамп в буквальном смысле обрушился практически на весь комплекс американо-мексиканских отношений, острой критике была подвергнута и деятельность НАФТА. Оглашались планы обложения мексиканских товаров импортной пошлиной в размере 35%; звучали угрозы депортации миллионов мексиканцев, проживающих на территории США без надлежащих документов (утверждалось, что многие из них «насильники и наркотрафиканты»). Болезненную реакцию мексиканского общества вызвали заявления хозяина Белого дома о необходимости воздвигнуть стену на всем протяжении мексикано-американской границы (отдельные участки стены уже существуют), причем парадоксальным образом предлагалось сделать это за счет мексиканской стороны.
В центр политики в отношении южного соседа Д. Трамп поставил пересмотр договоренностей в рамках НАФТА. Свои намерения Белый дом подкреплял следующими аргументами. Во-первых, более дешевая рабочая сила в